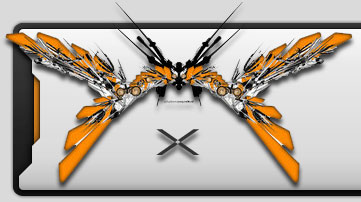«Журналист» №1, 2009
МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ: ПОЛЕМИКА И ПЕРЕПИСКА
Еще не вечер
Валерий Евсеев, зам. главного редактора, редактор отдела «Профессия».
Наверное, многие из прочитавших последний прошлогодний номер «Журналиста» удивились, увидев среди лауреатов журнала вологодского журналиста Михаила Илясова. У кого-то, я думаю, удивление было приятным, а у кого-то с диаметрально противоположным чувством. Это естественно, потому что столь же разноречивую реакцию вызвала и сама публикация Илясова, за которую он был отмечен редакцией журнала по итогам года. Она называлась «Мы докатились до уровня заурядной стенгазеты» («Журналист» №6, 2008г.) и на конкретных примерах весьма остро ставила проблемы свободы слова и взаимоотношений с властью в районной газете. Вопросы, поднятые автором, оказались типичными для многих регионов. После выхода в свет статью вспоминали практически на всех встречах «Журналиста» с читателями, о ней говорили в кулуарах журналистского фестиваля в Дагомысе. Однако земляки автора, почему-то обидевшиеся за вологодскую державу, решили дать гневную отповедь возмутителю спокойствия. В редакцию пришли их отклики, в которых, правда, больше говорилось о личности самого автора, нежели о сути поставленных им проблем. В своем комментарии, сопровождавшем их публикацию в октябрьском номере, я отметил это. Впрочем, об этом же с земляками Илясова, не разделяющими его взгляды, мы говорили еще до выхода номера. Очень хотелось узнать, что же они на самом деле обо всем этом думают. И вот свершилось! Мы получили новый материал автора одного из откликов. Материал, действительно, по сути обсуждаемых вопросов. И мы его, разумеется, публикуем. Но публикуем и еще одно письмо. Это отклик не только на Илясова, но и на отклики на Илясова.
Так что, дискуссия продолжается.
P.S. В публикуемом ниже материале цитируется вологодский губернатор Вячеслав Позгалев, призывающий «писать всю правду, меньше кланяться и не бояться». Золотые слова! Только мне почему-то вспоминается возмутитель спокойствия из Вологодской области Михаил Илясов. Он тоже хотел писать правду, не кланялся и не боялся. А ему после публикации в «Журналисте» пришлось уйти из кадуйской газеты «Наше время» и сменить профессию. Вот такие времена, Вячеслав Евгеньевич!
А кому нужна эта правда?
Из письма в редакцию:
Здравствуйте, Валерий Петрович! Ох, и разозлили вы меня (по-хорошему) своим комментарием в 9-м номере «Журналиста» к моему отклику на статью Илясова.
Но позвольте и вам попенять, не потому ли так «жалко» вам Илясова, что тот расписывал «жареные» факты, и вы увидели в них проблемы, но не задались вопросом, а правда ли это?
Наталья Брантова, редактор устюженской газеты «Вперед»
Что ж, давайте, поговорим и о проблемах районок, и о жизни в районах. И еще, поверьте, что не 131-й закон о местном самоуправлении прикрыл рот районкам – нельзя настоящему журналисту (хоть в районе, хоть в столице) прикрыть рот, он всегда найдет, как сказать правду. Просто этих самых «говорливых» журналистов (да и не только их) стало меньше. А где-то их никогда и не было.
Этот материал был подготовлен в конце сентября, даже не знаю, почему не послала сразу, видимо, опять чего-то ждала. И дождалась. В статье вы прочтете, что, по моему мнению, трудно докричаться до большинства чиновников, особенно до тех, которые рядом. Но никогда не думала, что мой «крик» будет услышан не только кем-то рядом или в области, а сразу нашим губернатором В.Е. Позгалевым. Я не взывала к нему, я не писала ему – а услышал именно он. Наверное, никому и не снилось такое, чтобы глава области, приехав в район, попросил редактора районной газеты ПИСАТЬ ВСЮ ПРАВДУ, МЕНЬШЕ КЛАНЯТЬСЯ И НЕ БОЯТЬСЯ. Не успела я вернуться в редакцию после встречи с В.Е. Позгалевым, как стали раздаваться звонки с одним вопросом: тебя уволят?
Почему пишу об этом? Думаю, что это редкий пример в наше время, но дающий такую надежду! И еще, это подтверждение тому, о чем написано дальше и намного раньше.
Итак, проблемы.
Проблема первая. Свобода слова
А что это такое? Кто определит границу с вседозволенностью? Самое главное – во всем должен быть смысл и у всего должна быть цель. Что я хочу сказать такого, что якобы запрещено, с какой целью я это хочу сказать и понимаю ли ответственность за сказанное?
Давайте рассмотрим на примерах.
Пример первый: чиновник администрации в пьяном виде за рулем машины сбивает велосипедиста. Велосипедисту – чего, чиновнику – ничего. Напишу в газете – дальше что? В чем смысл? ГИБДД знает, верхнее начальство нарушителя знает. Ах, народ не знает? Да знает и народ (это у вас в москвах не знают друг друга, а у нас даже собак всех знают). Так зачем писать? Чиновник лучше не станет, лишить прав его не захотели, уволить – тем более. Кому нужна эта правда? Тем более, что она в любой момент может оказаться неправдой – нас попросят доказать, а уже все шито-крыто.
Пример второй. Как только проходит минимальное повышение пенсии или смехотворная доплата кому-то, вот крику-то, шуму. Молодцы! Пять! А повышение в разы зарплат чиновникам проходит тихой сапой. И тишина-а-а. Совсем недавно приняли закон о повышении пенсий чиновникам и лицам, приравненным к ним, на много-много. И что? Я кому об этом буду кричать? Спросила одного из чиновников: «А как же бабули, которые в войну, будучи детьми, пахали? Почему у них пенсии смешные? Справедливо?». Он ответил, что несправедливо, но закон не он утверждал, и надо быть дураком, чтоб отказываться. А дальше что? Вы что, в столицах не знаете об этом? Да теперь чиновники мертвой хваткой держатся за свои кресла, тем паче и необходимый стаж у них для такой надбавки очень скромненький: 12 лет мужчинам, 10 – женщинам (это вам не педагогический стаж в 25 лет работы с детьми). Я не пишу об этом в районке, жалея стариков да и себя (вдруг экстремизм социальный припаяют). А кому нужна эта правда?
Пример третий. Не раз писала в своей газете всю правду-матку, даже про выборы. Результат? А никакого. Потому что все как всегда: собака лает – караван идет. Ведь услышать может имеющий уши, а если в эти уши с утра до вечера дуют прихлебатели да лизоблюды или уши заткнуты пробкой страха, то кто услышит? Народ? А вы не беспокойтесь за народ, он не хуже нас знает и во всем разбирается. Народ понимает, что плетью обуха не перешибешь, он всегда ждет лучшего, он ведь очень терпеливый, наш народ, он еще и верит. Замечательный у нас народ! Не хочет он в этой грязи валяться вместе с нами, даже в своем пьянстве он чище нас – он душу не продает за кресла и деньги! А не мы ли его в это пьянство вогнали?! И не нам ли за это отвечать?!
Много сказать хочется, ох, как много! И примеров тысячи. Но в них ли свобода слова? Повторюсь: главное – не что хочу сказать, а зачем. Такие речи и навредить могут. Нельзя всех одной меркой мерить. Есть и совестливые чиновники, и порядочные руководители. И клеймить 131-й закон в урезании свободы слова тоже бесполезно. Все решают люди, все зависит только от конкретных личностей. Если есть нормальный, по крайней мере, адекватный, хозяин района ли, губернии ли – и дела идут, и свобода слова есть. А если мясорубка власти своих же перемалывает и делает однородным фаршем с ингредиентами: трусость, чинопочитание, доносительство, вседозволенность и т.д., и т.п., так в этом не народ виноват, и не районка. Районка – это зеркало жизни, так нечего на зеркало пенять, коли власть крива.
А правду мы пишем, она – в каждой газете. Это сельхозники, учителя, врачи, простые работяги. Вот они и есть наша правда. Мы в своих газетах, по крайней мере, не лжем, и стараемся не допускать, чтобы нас, например, семейной жизни учил человек, который сам своей семье неверен. У нас корреспонденты чувствуют ответственность за написанное, за то, под чем они свою фамилию ставят. Поэтому районкам и веры больше. И самый наш главный принцип – не навреди. И нечего с той «высокой» правдой, как с писаной торбой, носиться, мы все ее ощущаем на своей шкуре каждый день и каждый час. Что толку, если мы в районах начнем лаять на Москву, услышит, что ли? Или никто не знает, как живут пенсионеры и жирует начальство? (Опять же, не все пенсионеры и не все начальство.) Так какой гласности кому не хватает?
Мы пишем о проблемах района. Власти читают, ругают, иногда очень грозно ругают, но ничего не меняется. Писать мы все равно будем. Для нас нет проблемы свободы слова, а есть проблема решения тех проблем, о которых мы пишем (пардон за тавтологию).
Проблема вторая. Власть и СМИ
Важность районной прессы высокие чины, по крайней мере, в Вологодской области очень хорошо понимают. И вот здесь власть (в нашем случае областная) – умница. А на местах – опять тот же человеческий фактор: постоянная игра в «уволю-не уволю».
Основная проблема местной власти – страх. И чего боятся? Любой свой минус можно обернуть в плюс: и не на словах, а на деле. Но наше русское «как бы чего не вышло» берет верх над разумом. Хотя с другой стороны и понимаешь: уж им-то есть чего терять. Например, завтра меня «уйдут» из редакторов, и мир не перевернется, моя семья не перестанет меня любить, на кусок хлеба всегда заработаю. У них же – другое дело: многие работать-то разучились, да и такие зарплаты где еще найдут. За такие деньги вкалывать нужно сутками, а некоторые пока их просто получают.
Так что, взаимодействие власти и СМИ – это опять же очень просто. Это взаимодействие людей, прежде всего.
В 2005 году в Дагомысе чуть не со слезами на глазах слушала одного главу района, который бил себя в грудь и утверждал, что он критики не боится, что он в газете с удовольствием читает эту самую критику, делает выводы, а потом дает втык своим замам, если факты подтверждаются. Я ведь искренне про слезы-то упомянула, потому что по наивности или еще как, но верю, что так может где-то быть.
В России все строится на отношениях: и плохое, и хорошее. Вот потому у нас и законы что дышло. А вот гордиться этим или плакать – еще и не определилась. Если брать русскую нацию, то есть у нас стремление к какой-то своей, не укладывающейся ни в какие законы справедливости. И большинство из нас знает, что такое совесть, и никакая власть нам в этом не помеха!
Я, наверное, опять огорчу вас, но у нас нет проблем и с властью, у нас есть проблемы с «дураками» у власти. (Перечитала, и вдруг осенило, вполне возможно и наоборот – проблемы у власти с «дураками»-редакторами).
Какими бы ни были обстоятельства, какой бы ни была власть – выход всегда есть – оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.
Устюженский р-н Вологодской обл
У «одобрямса» всегда есть оборотная сторона – «осуждамс»
Игорь Пирожков, корреспондент районной газеты «Вперед»
Сказать, что я читаю «Журналист» от корки до корки, будет неправдой. Но, как бы высокопарно это ни звучало, журнал стал для меня ориентиром, можно сказать, маяком, в моей каждодневной работе. Я нахожу у вас то, чего так остро не хватает «по жизни». В первую очередь профессионализм и плюрализм. Правда, второе, наряду со словами «демократия», «конверсия», «гласность» и многими другими, было искусно, расчетливо оплевано и втоптано в грязь. Но ваш журнал поддерживает у меня веру в обратимость этого процесса.
Мне уже 46 лет, но жизнь сложилась так, что мой стаж работы корреспондентом всего полгода. Я не испытываю иллюзий по поводу своего профессионализма, но считаю себя вправе высказаться на ваших страницах. Тем более, мне кажется, речь идет больше о вечных проблемах честности и порядочности. Я говорю о статье М.Илясова и последовавших на нее «откликах».
Я не знаю, к сожалению, самого Михаила, так же, как не знаю и его бывших коллег и Н.Брантову – редактора газеты с таким же названием, как у нас. При этом я готов подписаться под каждой буквой из статьи М.Илясова. Я даже не понимаю, как можно отрицать существование проблем, поднятых Михаилом в своей статье. Эти болячки, пусть разной степени тяжести, присутствуют во всех регионах России. Их не может не быть в нынешней системе взаимоотношений властей и СМИ. Наличие запретных тем может отрицать либо слепоглухонемой, либо тот, кто прикормлен властью и чувствует себя возле этой кормушки очень комфортно. Как высказался недавно на семинаре один местный глава администрации: «Кто платит, тот и заказывает музыку». Правда не смог ответить на вопрос, хочет ли кто-то плясать под эту «музыку». И почему он считает, что вправе заказывать музыку лично для себя, расплачиваясь муниципальными деньгами. Да и тех денег хватает лишь на пару месяцев, остальные же десять глава «насилует» газету, что называется, «на халяву». Однажды в одном только номере вышло ВОСЕМЬ его портретов. О чем еще можно говорить? И такие примеры в нашем Прикамье не единичны, хотя край считается относительно благополучным для работы прессы.
Журналистика, как и телевидение, загнана в порочный замкнутый круг. Ссылаясь на мнение «большинства», такие редакторы, как Н. Брантова, сами формируют и это «большинство», и его вкусы. Но если у бывших коллег Илясова хотя бы ясны мотивы, то агрессивность Н. Брантовой вызывает оторопь. Охотно верится, что ей очень «обидно за державу». Только не за ту, в которой тяжело и трудно живет большинство населения, а за ту, где «караси размерами с телят». Поэтому редактор устюженской газеты «Вперёд» зря тратила свой пыл – она просто живет в «параллельной стране». Можно за нее порадоваться, а можно и пожалеть – ведь жить и работать с таким букетом комплексов очень тяжело.
Вполне понятно желание, и даже необходимость, бывших собратьев по цеху из кадуйской районки высказать свой гневный «осуждамс» отщепенцу. Можно им тоже посочувствовать: судя по всему, М. Илясов не является пьяницей и морально неустойчивым элементом. А это бы так дополнило его образ «дебошира и нарушителя трудовой дисциплины». Но вот кидая камни ему вслед, надо было выбирать их поаккуратнее. Слишком много ляпов и нестыковок.
Особенно странно звучат обвинения Михаилу в унижении и оскорблении бывшего редактора. У меня создалось впечатление, что они были если не друзьями, то единомышленниками. В любом случае, я не заметил даже намека на какой-либо негатив в отношении редактора, только боль и сочувствие. Да и в больницу последний слег явно не из-за Илясова.
Кроме того, в отповеди сообщается, что Михаил «не пользовался уважением среди коллег». Я уж не говорю о затертости самой фразы еще в брежневские времена. Меня насторожило отсутствие подписей собственно коллег, то есть пишущей братии. Зато удивило обилие в кадуйской газете технических должностей. Можно только порадоваться за коллег, мы, например, себе такого позволить не можем при населении района в 36000 и тираже в 6500.
Абсолютно странным выглядит заявление об отсутствии поклонников среди читателей. В течение 10 лет автор писал, а редактор ставил против своей воли никому не нужные материалы?! А может, читателям как раз интересно было читать про политику, мораль, охоту и прочее? Тем более, что про полуживую промышленность теперь разрешается писать только серые унылые отчеты, желательно со щенячьим восторгом. А как можно обвинять журналиста в более полном использовании всяческой информации? Вроде бы это всегда считалось плюсом? Но, видимо, время Илясовых уходит, востребованным становится «профессионализм» другого рода. Остается надеяться, что оно уходит не безвозвратно, иначе про журналистику в России придется забыть. Правда, при этом исчезнут не только сторонники М. Илясова, но и его противники. К сожалению, последние этого не понимают, и есть опасения, что так и не поймут.
Октябрьский р-н Пермского края
|